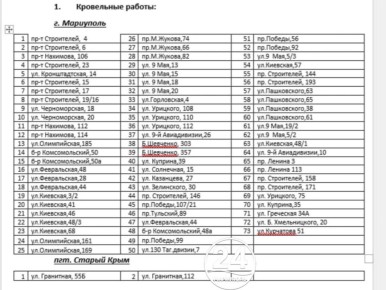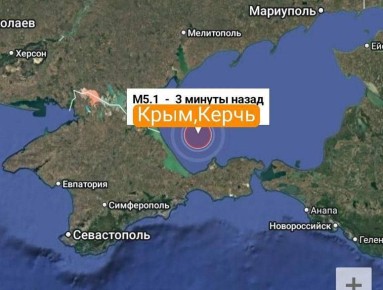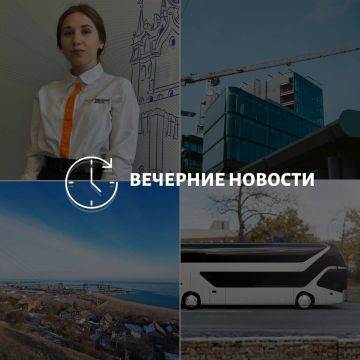Пугачева хрипло наговорила две новые песни. Одна – разговор матери с погибшим сыном солдатом, другая – про поцелуи войны. Поцелуи? Это дроны-то целуют и арта? Так всегда получается, когда люди пытаются брать тему, которую не прожили хотя бы по касательной. Когда есть высказывание, но нет творческого огня. Примерно такое же спела иноагент* Земфира про Мариуполь – «Мясо» или как там оно называлось. Слушаешь, и, вроде, голос Земфиры*, ее мелодии, но это не о Мариуполе 22-го, это просто фальшивка, которую даже короткая история в 3 года не сохранила.
«Песня» Пугачевой о матери и сыне воспринимается как надругательство. Надо жизнь прожить так, чтобы иметь право петь песни о войне и о солдатской матери. А когда на эту тему рот открывает Пугачева, ты спрашиваешь себя – «Сын? Какой сын?». И на ум сразу является Галкин. И сразу какое-то тошнотворное чувство от этих извращенных отношений женщины возраста матери и мужчины-сынка. А пока песню слушаешь, так и представляешь, что это Пугачева со своим Галкиным в какой-то страшной пародии друг с другом разговаривают. В той пародии, где война целуется. Правда, вместо войны представляешь страшную старую женщину, которая хочет тебя засосать черным ртом.
Но через всю эту жалкую фальшь и потугу изобразить талантливое, прорывается высокий чистый прежний голос Пугачевой. Это – голос боли. На четвертый год войны певица, как-то сказавшая в наш адрес – «Бог терпелив, но всему есть предел» – решила показать матерям бойцов, что она все-таки с ними, рядом, сострадает. Ага, домой просто хочет. И вот тут реальная боль. Домой-то приехать можно. Никто не имеет права запретить Пугачевой тут жить. Это ее законное право. И физически она ничем не рискует. Но ведь она хочет вернуться не в Россию, а в то время, в котором ей было хорошо. Но время делают люди. Она, может, и найдет тех же самых людей, но внутри они уже другие. И заставить их полюбить себя снова песнями о войне невозможно. Ну хотя бы потому, что война не целует, она отрывает руки и ноги всем подряд, и мы это видели и прожили.